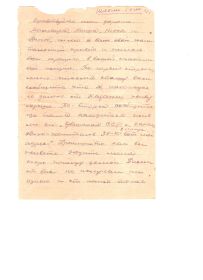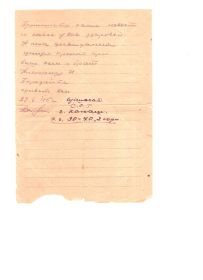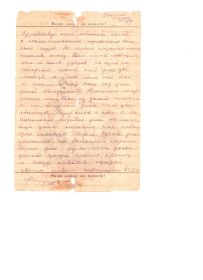Александр
Иванович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
Боевой путь
Воспоминания
Мемуары "Смертям назло"
История из воспоминаний представлена в видеоролике по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/Y48HPLjjRu69yg
Двадцатый век вместил в себя множество войн на земле, в том числе две мировых. Главным событием в жизни моего поколения стала вторая мировая - Великая Отечественная советского народа. Через нее прошли моя молодость и зрелость. Прожив в этом столетии лишь немногим более семнадцати лет, я не знал тогда, что из всех парней группы радиооператоров Тобольского ремесленного училища №2 связи, ушедших на фронт в декабре сорок второго, мне единственному суждено будет живым вернуться с неслыханного побоища.
Хорошо помню утро 8 апреля сорок пятого, как мы с украинцем Николаем Прихвотило, только-что назначенным ко мне радистом, не включая радиостанцию "Р-41", спешили за командиром гвардейского стрелкового батальона Петром Ефимовичем Завьяловым на следующий командный пункт, расположенный на одной из городских площадей Кенигсберга (ныне Калининград). На подступах к реке Прегель штурмовой отряд нашего батальона только-только овладел новым рубежом. Николай впереди меня нес за плечами радиостанцию. В правой руке держал шест, обвитый проводом-антенной. Я же шел за ним на расстоянии двух-трех метров и вел микрофонные переговоры с радиостанцией командира полка.
... Неожиданно тупо удар-толчок сбил меня с ног, слетели наушники. Сгоряча попытался встать на ноги и тут же вновь упал на мостовую. Не обращая внимание на разрывы снарядов, подсунул под живот кирзовую полевую сумку и пополз на ней, волоча ноги, оставляя за собой кровавый след на булыжнике. В это время Николай уже поставил радиостанцию на крыльцо подъезда, с испуганными глазами подбежал ко мне, подхватил под мышки и занес в дом.
Перед каждой наступательной операцией я всегда брал в санчасти два пакета на всякий случай, а тут на мое "счастье" оказалось шесть. Из правой щеки, изо рта текла кровь. Наполнился ею левый сапог, смокли ватные брюки на правом бедре. Николай искрутил на мою голову четыре пакета, распорол ножом правую штанину, наложив пакет на рану и вместе с ватником забинтовал правое бедро. Из-за невыносимой боли нельзя было снять левый сапог. Разрезав его до носка, только тога забинтовал последнюю рану, израсходовав и свои два стерильных пакета.
Силы мои потихоньку слабели, знобило. Николай притащил две перовые постели, подушки и рядом с горящей комнатой уложил меня. Сказал ли я ему спасибо за его хлопоты – не помню. Только дал ему наказ срочно следовать к комбату, там проверить работоспособность рации и сообщить о случившемся в штаб роты связи. Он быстро закинул за плечи радиостанцию, автомат – на шею и исчез из подъезда, оставив меня с двумя гранатами-лимонками. Я на всякий случай положил их под постель с правой стороны: а вдруг появятся немцы с верхних этажей или из подвала.
… Внезапно все исчезло, смолкли крики, выстрелы и разрывы. Вижу перед глазами лишь что-то белое, заволакиваемое дымкой. Такого странного состояния никогда не испытывал. Лежу на спине. Правая рука держит гранату под постелью, потрескивает огонь в соседней комнате. Он то стихает, то вновь разгорается. Думаю о том, чтобы не уснуть: если усну – могу сгореть. А спать так хочется. Ведь с утра 6 апреля начался штурм города-крепости и глаза мои не смыкались. На мне была вся ответственность за обеспечение бесперебойной связью штурмового батальона с командованием 21-го гвардейского стрелкового полка.
Чтобы не уснуть – надо ворочаться, но не понимаю, почему не могу? Наконец делаю усилие, опираюсь обеими руками о пол, хочу сесть, но что-то острое прожигает мое тело с ног до головы, и я мгновенно падаю.
Сколько спал, не знаю. Разбудил меня какой-то странный звук в горящей комнате. Не понимаю, почему я здесь? Делаю слабые движения и снова - мучительная боль. Хватаюсь за голову, бинты на ней покрыты коркой засохшей крови. Трогаю рукой правое бедро ноги – боль становится еще сильнее. Дотянуться до левой ноги не могу. А боль как зубная, ноющая. В голове моей сумбур, шум в ушах. Почему ко мне никто не приходит? Неужели Николай еще не сообщил в штаб роты связи? Ведь в этом доме, очевидно, лежу не я один. Ощущаю, как что-то коробит корни моих волос, приходят в голову разные мысли. Не хочется умирать. Сколько здесь, в этом подъезде только у меня мук и страданий. И все же, это лишь одна песчинка в пустыне горя и мучений, испытывающих массою солдат и офицеров. А сколько их везут назад в тыл и кладут рядами в братские могилы.
Вместе со страхом смерти, физическими страданиями испытываю какие-то непонятные чувства: «Смерть всегда найдет причину». Но умирать среди любящих, друзей и близких или валяться в собственной крови и грязи, ожидать, что вот-вот спустятся с лестницы или поднимутся из подвала фашисты и добьют тебя…
Кажется, стихли наконец мои боли. Снова хочется спать. Только проснусь ли еще раз, не уверен, и не может быть, чтобы меня не подобрали санитары? Может быть, они проходили мимо моего подъезда тогда, когда спал и не откликнулся на их зов?
Проходит время. Затухает огонь в горящей комнате, затухают и мои чувства.
Помогите!
Но нет. На мои безумные вопли никто не отзывается, хотя они громко раздаются в подъезде. Все затухает в мрачной, жуткой тишине. Закрываются веки. Пытаюсь шевелиться, чтобы не задремать, снова напоминают о себе раны. Нет, лучше лежать неподвижно и ждать санитаров.
Кончается вторая половина дня. Неужели в конце его наступит конец и мне? В роте связи подадут сведения и полк за восьмое апреля о том, что потери наши не значительны: ранено столько-то, убито столько-то и фамилии не укажут. Ведь такие сведения мне часто приходилось передавать в штаб полка.
Во рту появилась сухость, жажда. Хочется пить. Отстегиваю левой рукой фляжку. Воды в ней осталось менее половины. Отпил несколько глотков и подумал: сколько я еще проживу часов, а может быть суток? Наши ушли вперед ,сжимая кольцо окружения фашистов. Почувствовал, что с водой вошла в меня частица бодрости и надежды на жизнь. Во фляжке осталось еще несколько глотков – несколько часов жизни.
Хватит! Не нужно падать духом. Надо бороться до конца, до последнего дыхания. Если меня найдут, какое это счастье. Меня вылечат и я увижу родину, мать, братьев и сестер, любимую девушку.
Жжет как огнем мое горло и воду необходимо экономить, пить только по глотку, тогда и хватит ее надолго … до самой смерти.
Догорает комната. Может быть, сейчас санитары проходят мимо по улице, думая, что тут все сгорело. Уже темнеет. Вряд ли ночью кто-то будет искать меня. Лежу в изнеможении, путаются мысли.
Когда проснулся, было уже совсем темно. Только огненные блики проскакивают в чуть открытую дверь подъезда. Горит город. Содрогается земля. «Болят мои раны, болят мои раны тяжело»… И неужели, добравшись с берегов Иртыша до самого Балтийского моря, оставив все дорогое и любимое, шел с боями полтора года, голодал, холодал и не досыпал, не раз висел на волоске от смерти, и наконец, лежу теперь в муках и умираю, не дожив до долгожданного дня – Победы?
Нет я не должен умереть Надо ползти к двери и звать прохожих на помощь. Пробую повернуться на живот – не дает сильная боль. Прихожу в отчаяние и плачу, плачу, а слез нет. Еле-еле сполз с постели и упал в беспамятстве…
Забрезжил рассвет. Ищу фляжку, из которой давно выпил всю воду – мою жизнь, мою смертельную отсрочку. Наступило второе утро моего существования. Потолок моей «палаты» покрылся сажей.
Дорогая, милая моя матушка. Помоги мне выстрадать, выжить. Если умру проклянешь ты тот день, 5 октября, двадцать пятого года, когда родила меня, весь мир проклянешь, и тех, кто развязал эту кровавую войну, на горькое страдание людям.
Но вы, дорогие мои, и не слышите там, в Сибири, о моих страданиях и муках. Прощайте! Жите только отца. Он где-то под Берлином добивает фашистов в их собственной берлоге. Ох, как я мучаюсь. Смертушка, где ты заблудилась? Иди сюда и забери меня! Но она ходит в этом подъезде и не берет меня. Лежу ни живой ни мертвый.
Проходит второй день. Если никто не придет вечером – ночью ждать нечего. Кто же станет ночью шариться по подъездам пока идут ожесточенные бои.
… И вдруг распахивается дверь подъезда:
- Есть ли здесь кто живой!
Я вздрагиваю и прихожу в себя.
- Есть! Есть! Я живой! – изо всех сил кричу.
На меня глядят добрые глаза нашего санинструктора Миши (фамилию его е помню). Первым делом он подал мне свою фляжку с водой, перевернул окровавленную подушку и уложил меня на постель.
- Саша! Потерпи еще немножко. Я сейчас прибегу.
Через какое-то время Миша снова появился. Поставил возле меня носилки и опять выбежал на улицу. Тут же за ним зашли четверо немцев, а может быть фашистов, переодетых в гражданскую одежду. Уложили меня на носилки. Прикладом автомата санинструктор держал открытую дверь подъезда, кивком головы показывая носильщикам идти к выходу.
Несли меня по улицам города головой вперед, и я лишь видел двоих, на которых небрежно, не по размеру были надеты костюмы. Может быть это они расстреляли нашу радиостанцию? Гады!
Михаил шагал за немцами с автоматом наизготове и покрикивал:
- Шнель! Шнель!
По пути к сборному пункту раненых, который располагался у железнодорожного вокзала, часто рвались снаряды и мины. Носильщики несколько раз бросали меня в кюветах, укрываясь от обстрелов фашистских батарей.
На сборном пункте уложили меня в телегу рядом с каким-то офицером. Затарахтели колеса поперек четырнадцати пар рельсов. Такой смертельной боли я никогда не ощущал. И, сколько во мне осталось еще сил, кричал, чтобы остановились и дали передохнуть. За телегой, запряженной трофейным битюгом, шли легкораненые и уговаривали меня, чтобы я еще немного потерпел. Навстречу моим мукам, бесслезному реву пришел ездовой. Он остановил лошадь на две-три минуты и этого было достаточно, чтобы расслабить свои легкие. И снова затрясли мои кости через рельсы. Рядом лежащий офицер не подавал признаков жизни. Вскоре и я потерял сознание…
В медсанбате привели меня в чувство. Стащили с меня окровавленное обмундирование. Медсестра Ольга (фамилию ее тоже не помню) обработала все мои раны, поставила в грудь три укола от столбняка и обезболивание. Снова впал в забытье.
Утром 10 апреля меня разбудила палатная сестра. Какое-то невыразимо-приятное чувство разлилось в моем теле. Я не ощущал ни малейшей боли от ран. Осмотрев соседа по койке, подошел ко мне хирург полевого госпиталя и спросил:
- Как себя чувствуешь, сибиряк? За три часа извлек из тебя двенадцать осколков. Думаю, это еще не все. Вольем тебе подкрепление, подлечим и отправим в эвако-госпиталь. Там тебя осмотрят через рентген.
- Доктор, а я буду жить?
- Теперь не дадим умереть. Отсыпайся.
И снова сон. Забытье.
В эвако-госпитале №1086, который располагался в Тильзите (ныне г. Советск) с помощью рентгена обнаружили во мне еще четыре осколка. Началось загноение большой берцовой кости. Опухла правая щека так, что не разжимались челюсти. Поднялась температура. Когда сняли гипс, хирург Стасенко заявила:
- Придется удалить вашу ногу ниже колена.
- Что хотите делайте! Только не отрезайте, - не соглашался я.
23 апреля снова операция. В большом актовом зале одной из тильзитских школ в одном ряду до десятка операционных столов, занятых ранеными. Возле каждого хирурги, медсестры. Все они неутомимо ведут борьбу за жизнь моих однополчан. Справа моего стола похрапывает в усы солдат. Хирург извлекает из его ягодицы осколки и со звоном бросает их в окровавленный таз. Слева медсестра только-что положила в такой же таз кисть руки.
Привязали и меня ремнями к столу. Накрыли марлевой салфеткой лицо. Надрывается нить воспоминаний, уплывают клочки видений, и снова монотонно-тихая пропасть забытья.
… Наконец, просветлела память. По крупицам воскрешаются обрывки недавнего былого, как будто из какого-то тоннеля вылетает поезд-товарник и гремит по тем же чугунным рельсам, которые преодолевал на железнодорожной станции Кенигсберга. Разламывает голову наркоз, все во мне сдавливается нестерпимой болью, все существо яростно сопротивляется телесной немощи, затмению ума, негодующе восстает против небытия, в котором пребывал более четырех часов.
Как только санитары внесли меня в палату, тут же появилась хирург Стасенко. Она низко склонилась надо мною и тихо сказала:
- На месте твои ноги. Только убрала всю гниль с кости, удалила осколок из челюсти.
- Спасибо, - промолвил я.
До сих пор помню моего лечащего врача-хирурга Стасенко, симпатичную и обаятельную женщину, мою спасительницу. В моем фронтовом альбоме есть рисунок, набросанный химическим карандашом соседом по госпитальной койке летчиком Михаилом Строгановым. Это он 27 апреля оставил на память лежащего меня на деревянной койке с надписью на гипсе бедра: «Ранен 8.04.45г., Гипс 23.0445г., э.г. 1086., Вр. Стасенко.».
Вскоре после празднования Дня Победы, нас, тяжелораненных эвакуировали на родину. А перед отправкой мы сочинили песню:
«В Россию братцы завтра уезжаем,
Страна родная гвардию встречай.
Тильзит разбитый утром покидаем,
Мы не вернемся к тебе, Пруссия, прощай!»…
В конце июня сорок пятого вынесли меня из вагона на станции Канаш Чувашского АССР и поместили в эвако-госпитале №3070. Лишь в конце августа, после заключения медицинской комиссии я прибыл в родной Тобольск с открытой раной инвалидом войны второй группы. Только через пятнадцать лет закрылась моя последняя, трижды долбленая рана.
Александр Иванович Вахрушев,
Инвалид Великой Отечественной войны.
г. Тобольск, октябрь 1989г.