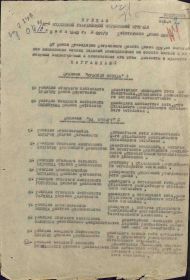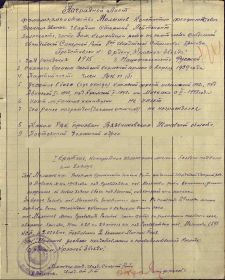Константин
Феофилактович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Наш дедушка, Малышев Константин Феофилактович родился 9 октября (27 сентября по старому стилю) 1915 г. в городе Вязники. Пришлось ему одному быть из семьи не Филатовичем, а Феофилактовичем: выдавая на него метрическую книгу, сотрудник ЗАГСа оказался наиболее внимательным и правильно прочел имя отца Константина. Учился с 8 лет в школе при фабрике Парижской коммуны. Отец Константина, Малышев Феофилакт Гаврилович (1877-78 – 1922 гг.) участвовал в Первой мировой войне, мать - Малышева Евдокия Петровна (1877-78 – 1928 гг.). В семье Малышевых было 9 детей, двое из них умерло. Остались: Владимир, Николай, Иван, Михаил, Екатерина, Елена и Константин. Росли дети в суровых условиях, и даже лыжи и коньки зимой изготавливали себе сами. «В то время у нас и запросов не было на что-то хорошее», - вспоминал дедушка. Семья Малышевых пережила голод в 1921 году. Ели жмых, а отруби были деликатесом. Тогда в поисках пропитания часть семьи, в том числе Константин, отправилась в «хлебородную» Саратовскую губернию. В 1922 году семья вновь воссоединилась, в этот же период от болезни умер глава семьи. На руках Евдокии осталось семеро детей, в воспитании которых помогала ей сестра Ненила. Однако в 1924 году Ненила умерла. Из детей в тот период работали только трое братьев Константина. Евдокия Петровна тяжело переживала потерю детей, которые умерли в короткое время, мужа, сестры, а затем гибель сына, Михаила. В 1928 году не стало и ее. Для Константина, которому было на тот момент 13 лет, это был сильнейший удар. В родительском доме он остался жить с братом Владимиром – остальные дети обзавелись семьями. В этот период Константин поступает учиться в ФЗУ на базе 7-летки в подмастерскую группу. Жизнь в доме стала тяжелой, когда у брата появилась семья, Константин стал нежеланным жителем дома. В 1933 году подросток был вынужден покинуть родной дом, и его приютила чужая семья.
В 1937 году Константин Феофилактович работал на фабрике «Свободный Пролетарий» в г. Вязники, в этот период он знакомится с ткачихой Клавдией Андреевной Малышевой, молодые люди женятся. 22 августа 1938 года у супругов рождается сын Рудольф. Однако счастье не длилось долго: 3 ноября 1938 года Клавдия умерла от заражения крови, которое получила при родах. Константин стал для родителей Клавдии родным человеком, и семья растила Рудика сообща.
В апреле 1939 года Константина Феофилактовича взяли в Красную Армию. С 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года он участвовал в Финской кампании в составе 9-й действующей армии. После окончания военных действий роту перебросили в Закавказье, где ее застало начало Великой Отечественной войны.
Константин Феофилактович помнил всех своих однополчан-земляков: Ивана Юдина из деревни Паустово, Ивана Ленькова из поселка Никологоры, Василия Ломакина из деревни Ильина Гора (попал в плен, вернулся на родину в 1947 году), Александра Зуйкова из деревни Перово (вернулся с войны) и Григория Маркова (1918 г.р.) из Вязников.
В начале войны 33-й отдельный строительный батальон, в котором служил Константин Феофилактович, был переименован в 256-й армейский отдельный инженерный батальон. Участвовал в боевых действиях в составе Северо-Кавказского фронта, был награжден медалью «За отвагу».
В 1943 году Константин получил письмо от родных, в котором сообщалось о гибели на фронте его братьев - Владимира, Ивана и Николая. Погиб на войне и его племянник Владимир, сын Николая.
Весной 1944 года Константина Феофилактовича отправляют на Ленинградский фронт, позволив по пути навестить семью в д. Илевники Вязниковского района, где рос его сын, Рудик. Он женится на Елене, сестре своей жены, которая все это время заботливо растила его сына. К тому времени дома осталась она одна, а младшая сестра, Женя, работала на трудовом фронте.
Прибыв на Ленинградский фронт, Константин Феофилактович попадает в резерв 23 Армии, затем, через 2 месяца его взяли в 98-й отдельный стрелковый корпус на должность командира отдельной саперной роты 927-го отдельного саперного батальона. Командовал дедушка 1 ротой этого батальона до самого конца войны. С этой ротой он прошел Восточную Пруссию, Польшу и Померанию. Рота участвовала во взятии города Эльбинга (немецкое прозвище посльского города Эльблонга). Значительные операции рота вела в во время взятия Варшавы, Данцига, Гдыня. Весть о Победе застала Константина Феофилактовича, когда его рота держала направление на Нойштеттин. После окончания войны рота перешла к «оседлой» жизни в городе Бельгард. Офицерам разрешили взять к себе в Германию жен, однако Елена и Рудик остаются в своем доме в Илевниках, и Константин Феофилактович возвращается к ним. В июне 1946 года он был демобилизован. 25 апреля 1947 года у Константина и Елены рождается сын – Станислав, а 15 декабря 1948 года – дочь Лидия. 3 марта 1950 года трагически погибает Рудик – его вместе с другом сбивает машина.
Впоследствии Константин Феофилактович работал в ДОСААФ, МВД. Он прожил достойную, насыщенную трудовую жизнь, имел активную гражданскую позицию и твердые жизненные установки. Поддерживал крепкую связь со своими однополчанами.
Константин Феофилактович ушел из жизни в 2007 году. Вечная память герою!
Боевой путь
Воспоминания
Переправа.
«Наша рота впервые вступила в бой на десанте в Крыму. Мы высаживались вторыми эшелонами вместе с 47-й Армией прямо в Керчь в феврале 1942 года. Я был зам. политрука роты. По тому времени я был довольно грамотным, и политрук дорожил мной. Все планы, отчеты, да большинство работы он взвалил на меня. Я даже оборудовал ленкомнату: на всю роту под открытым небом выкопали квадрат, оставив земляные скамьи и стол. На стенах развесили карты и наглядные пособия. И вот, 8 мая 1942 г., мне кажется именно над моей ленкомнатой повис корректировщик Фокке-вульф «Рама». Вскоре позади ленкомнаты упал снаряд, затем второй, третий, и через минуту в воздухе было уже черно от немецких самолетов, а немецкая артиллерия накрывала огнем наши батареи. На другой день мы узнали, что фланг обороны наш не выдержал и стал отходить, создалась угроза окружения. Нам дали приказ отходить на 40 км. И указали место, где мы должны остановиться и подготовить траншеи для передовых частей. Когда мы эти траншеи вырыли, то оказалось, что в них никто не намерен задерживаться, и нам дано было распоряжение обходить к проливу на причал «Маяк» еще километров 60. Когда мы прибыли на «Маяк», то там уже была масса войск и гражданского населения. Командир нашей роты мл. лейтенант Грачев, сказал, что спасаться будете каждый, как может, а собираться будем уже на другом берегу пролива, т.е. на косе Чушке. Мы потеряли полностью организацию, и каждый в одиночку стал предпринимать дальнейшие шаги. Куда делся наш политрук Бахиров, мне тоже неизвестно. Со мной остались красноармейцы Иван Прошин и Вася Ломакин. Мы видим, что некоторые плывут на тот берег на плотах и стали искать бревна на плот. Как и многие мы приметили разбирать сарай, стоявший вдали от берега, и таскать бревна. Сделали плот и тронулись на нем втроем, но вскоре он стал под нами тонуть. Вася Ломакин, как самый тяжелый, сказал, что все равно погибать, что он не поплывет с нами, и мы распрощались. В то же время налетела немецкая авиация и стала нас бомбить. Какие-то люди возле нас бросили плот и убежали, а мы этот их плот подобрали, натащили на свой и стал у нас двойной плот. Немецкой бомбой разбило санчасть на автомашине, и около нас упала тумбочка. Мы и ее затащили на плот, из двух досок сделали два весла и снова поплыли. У нас с Иваном Прошиным были карабины, мы их зарядили и дали слово, что если будем тонуть, то застрелимся. Мы держали ориентир на домик на косе Чушка, плыли к нему и уже преодолели 1,5 км., а всего надо проплыть 4,5 км., но я сказал Ване, что нас сносит к Керчи , а там уже были немцы. Ваня умолял меня грести сильнее, но я уже не мог, и нас понесло вправо. В месте, где мы были, из дна пролива выходили какие-то столбы. Говорят, что они были сделаны для рыбаков. Мы увидели, что на этих столбах висят люди, т.е. залезли и привязались ремнями и веревками, и так же прицепились некоторые плоты с людьми. Мы так же решили прицепиться к столбам. Было это утро. Над проливом стоял густой туман. К берегу подходили корабли и катера, но сажали они организованные части, а нам, одиночкам, а таких оказалась масса, было неизвестно что делать, и мы сошлись во мнении: будь что будет. Вдруг по фарватеру невдалеке показался маленький катерок «ОСВОД». Все закричали: спасите. Моряки затормозили и крикнули, есть ли у нас автоматы. В то время автомат был желанным оружием. Я крикнул, что есть, и поднял карабин. Моряки нам бросили буй и подтянули наш плот к катеру. Когда мы вскарабкивались на борт, моряки увидели, что у нас не автоматы, а карабины, и, пожалев, что спасли нас, сказали, что если сейчас увидит капитан, то велит выбросить нас за борт. Однако они не были к нам так безжалостны и скомандовали нам броситься в трюм. Мы не помним, как летели по железной лестнице. Это было 11 часов дня, а нас высадили в 5 вечера. Когда мы вышли у единственного домика на косе Чушке, Ваня предложил мне: давай отдохнем рядом с ним. Там уже было много народу. Я же настоял без отдыха идти на большую землю – это 13 км. - и оказался прав. Только мы отошли с километр нас настигла немецкая авиация, и домика не стало.
На большой земле из нашей роты собралось немного».
"Малая Земля". Мысхако.
«Второй десант наш был в конце 1942 года на Мысхако под Новороссийском. Я уже был в звании лейтенанта и в должности зам. Командира роты по полит. части. Меня назначили в отдельную саперную роту 8-й отдельной Гвардейской стрелковой бригады. Высаживались ночью на нескольких катерах. Отплывали из Геленджика и Кабардинки. Плацдарм на Мысхако уже был занят нашими, куликовцами. Самого Куликова уже не было в живых. Когда катера были уже невдалеке от берега, нас обнаружил немец и повел арт. обстрел катеров, а над нами навесил фонарей – это на парашютах горящий факел. Была дана команда спрыгивать в воду и добираться до берега. И все были предупреждены, чтобы на берегу быть только с оружием. Кто потеряет оружие, может на берег не выходить, бесполезно (будет скорый трибунал). Нас успело спрыгнуть человек сто, а остальных катера увезли обратно. Как ни странно, без оружия вышел только один человек, еврей по национальности. Правда, он был не похож на еврея, т.к. был рыжий, совсем красный. И потерял-то он в море не автомат, а миноискатель. На второй же день было то, что сказано выше. Выяснилось также, что все, кто высадился, имели из продуктов только кусок вареного, подсоленного мяса, и ни один человек не высадился с сухарями. От соседей тоже помощь в хлебе не получили, поэтому стали жить на мясе и ждать высадки своих. Однако высаживаться немец не давал около двух недель. Заболели животы. Вскоре высадились остальные, и кроме того, Большая земля прислала в банках какой-то черной пасты. Мы покушали ее, и животы наши быстро наладились. Этот десант был очень боевой. Занимал он территорию маленькую: по фронту около 5 км. В глубину около 3 км, но немцам досталось от него, как от большого десанта. Это потому, что на нем были в основном моряки. Весь день шла стрельба с той и другой стороны и крики из громкоговорителей. Немцы предлагали нам сдаться, грозя сбросить десант в море, а наши отвечали им по-немецки и по-русски солеными фразами и словечками, а также вели агитационные передачи. Моряки днем наловили из под камней черепах, а ночью, прицепив к из задним лапкам по 2-3 кофейные банки и пускали от своих окопов в строну немецких. Черепахи ползли и делали шум. Немцы думали, что готовится атака и открывали беспорядочный огонь и вешали дорогостоящие фонари. Черепаха пугалась света и притаивалась, как зажигался фонарь, но как наступала темнота, снова поднимала возню и шум. Так немцы и нервничали всю ночь, и утром снова стрельба – уже прицельная. Ночью мы охотились и на парашюты. Из них выходили хорошие носовые платки, подворотнички а иногда и трусы. Красили их акрихином.
На десанте нелепо погиб командир моей роты, старший лейтенант Саша Шевцов. Немцы стали сбрасывать на десант с самолетов новый вид бомб (мины). Самолет сбрасывал контейнер, который быстро, еще в воздухе, раскрывался, и из него высыпалось огромное количество мин. Мина эта – круглый шарик с пол-литровую банку, имеет стержень, на котором пропеллер из жести. Мина летит на землю тихо, т.к. крутится пропеллер, и ей падать быстро не дает. Затем, когда пропеллер вывернул стержень до отказа, он перестает крутиться, и мина падает быстро. В это время она уже на боевом взводе, и стоит ей только дотронуться до земли или до кустика, как она взрывается и поражает шрапнелью. Некоторые мины, а таких было много, или из-за конструкции или рабочих антифашистов на заводе, не взрывались и, упав на землю, лежали. Командир роты взял одну из таких мин и пренебрег нашим правилом осторожности, решив посмотреть, как она устроена внутри. Он послал нашего общего с ним ординарца за отверткой, и вместе с ним решили разобрать мину, но как только повернули отверткой первый винт, последовал взрыв, и их обоих не стало.
На нашем десанте автомашин не было, дорог тоже. Было несколько ишаков. К марту 1943 г. нам прислали танки. Три танка все время стояли в кустах, а действовать им было негде. В конце марта 1943 г. Гитлер принял решение стереть десант с лица земли. Он снял авиацию с трех фронтов и бросил ее на наш десант. Три дня, по 2000 самолетов в день, бомбили десант. Над нашей ротой оперировали румынские самолеты. Эти двукрылые небольшие самолеты залетали на цель, вставали хвостом вниз и высыпали бомбы. Бомбежка этой твари была бесприцельной. Нас несколько человек было в цели, когда одна из бомб упала в 4-х метрах от нас. Всех оглушило, но никого из нас не ранило даже, только изорвало на нас шинели. В первый же день бомбежки Сталин за своей подписью прислал нам листовки. Самолет наш сбросил их ночью. В этой листовке Сталин впервые назвал наш десант Малой землей. Листовка была такого примерно содержания:
«Героические защитники Малой земли, Гитлер отдал приказ уничтожить ваш десант. Для этого он снял авиацию с трех фронтов, в расчете быстро добиться своей цели. Дорогие товарищи, прошу вас выстоять в этом испытании. Гитлер не может держать авиацию более трех дней. После этих дней обещаю вам дать столько же авиации на ваш фронт и другую помощь».
Иосиф Сталин.
Слова Сталина были очень точны! Ровно три дня немцы свирепствовали в воздухе, и в эти дни теснили наши части на один километр. На 4-й день авиация была снята. Не осталось ни одного немецкого самолета, а продвинувшиеся на километр немецкие части срочно убежали на старые позиции. На 4-й день небо покрылось нашими самолетами, и от взрывов позиции немцев стали такими же черными, как и наши. Однако пойти в наступление нам было не под силу – в батальонах оставалось иногда 7-10 человек. На этом десант уже утвердился прочно и окончательно тронулся в общее наступление уже в июне 1943 г., когда погнали немцев со всего Закавказья».
Взятие города Эльбинга. Подвиг лейтенанта Пяткова.
Взятие города Эльбинга.
«Из нашего батальона в этой операции участвовала только одна моя рота. Эльбинг был немцами хорошо подготовлен к уличным боям. Все улицы сильно простреливались. Наступать по улицам – значит нести большие потери. Советское командование приняло решение идти в наступление по центральной улице, но не по открытой местности, а из дома в дом, а моей роте было дано задание пробивать бреши в боковых стенах домов и давать путь пехоте. Бреши пробивали мы в подвальных помещениях прикреплением к стене противотанковых мин и их взрывом. В это время 927 батальон и 98 корпус уже входили во 2-й Белорусский фронт маршала Рокоссовского. Руководить пробоем стен я назначил командира взвода лейтенанта Пяткова. Этот молодой лейтенант только что поступил в мою роту и был очень смел и весел. Он примерно 1925 года рождения, но я не помню ни его имени, ни места его рождения. Был он в роте недолго и погиб геройски. Пробив очередную брешь в доме в проулок, Пятков увидел, что пехотного командира убило, и солдаты без командира замешкались и не идут в атаку в эту брешь. Тогда он взял командирование на себя. Саперы уже взорвали стену и в соседнем доме в его подвале, и Пятков повел стрелков за собой. Пехотные солдаты ворвались в соседний дом, а лейтенанта Пяткова в эту операцию убил немецкий пулеметчик. Он прошил ему грудь четырьмя пулями. Похоронили Пяткова мои солдаты в палисаднике этого дома и на доске прикрепили его фотокарточку. Хотелось бы мне оповестить его родных о геройской его смерти, но не знаю, где они проживают. Город Эльбинг был взят, а батальон, благодаря моей роте и главное – благодаря действиям лейтенанта Пяткова, был удостоен названия 927-й отдельный «Эльбингский» батальон (указ Президиума Верховного Совета СССР), а я награжден орденом Отечественной войны II степени».
Примечание:
Пятков Степан Петрович, 1923 г.р., гвардии лейтенант
Погиб 09.02.1945 года в городе Эльбинг, Восточная Пруссия
Извещение о гибели лейтенанта на сайте «Память народа» -
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie13380017
Родные солдата: Пяткова Елизавета Григорьевна,
д. Нижмозеро, Онежский район, Архангельская обл.