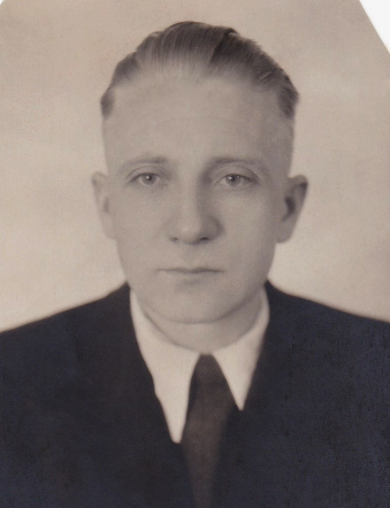
Иван
Андреевич
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
И.А. Кяккинен во время блокады Ленинграда работал на Кировском заводе кузнецом. Когда началась Великая Отечественная война основные мощности и многие специалисты предприятия были эвакуированы в Челябинск. Часть завода и специалистов остались в Ленинграде. Остался на заводе и Иван. Кировские рабочие снабжали Ленинградский фронт боевой техникой и защищали город. В октябре 1941 года производство танков было окончательно эвакуировано. Однако кировцы ремонтировали танки, приходящие с фронта, изготавливали боеприпасы (снаряды, мины), корпуса для техники (в частности для штурмовиков ИЛ-2), а вскоре вернулись к выпуску полковых пушек и минометов. Их доставляли на все фронты самолетами. А выезжающая из цехов боевая техника прямым ходом отправлялась на передовую.
Фактически, завод работал, но всего на 7 – 8% от своей мощности, от обстрела к обстрелу. Топлива и рабочих сил не хватало. Весной 1942 года вместо 33 тысяч человек на смены выходили 10 тысяч, а к концу 1942 года – меньше 5 тысяч.
Обстановка с продовольствием в осажденном городе становилась все хуже. И это не могло не сказаться на состоянии рабочих завода. Особенно сильно это проявилось суровой зимой 1941-1942 гг., когда в Ленинграде нормы выдачи продовольствия достигли минимума.
Была вполне реальной и угроза захвата предприятия противником.
Все вместе, в сочетании с голодом, делало работу на предприятии делом более чем рискованным. За годы войны на территорию завода упало 4680 снарядов, 770 фугасных и зажигательных бомб, 139 человек было убито осколками бомб и снарядов, 788 получили ранения; более 2500 работников умерли в рабочее время от истощения.
Рабочие Кировского завода перешагнули тот предел человеческих возможностей, который очерчивает смерть. Они продолжали трудиться, не смотря на обстрелы, голод и свинцовую усталость, которая, как и голод не отступала ни на минуту. В условиях начавшейся зимы ко всем прочим лишениям блокады прибавился еще и холод. Вскоре трудящиеся были уже не в состоянии покидать завод и спали там же, где заступали на смену. Через какое-то время не осталось сил, чтобы стоять пред станком. Дед сделал из палок костыли, опираясь на которые он продолжал выполнять трудовую норму.
В самое тяжелое для Ленинграда время, зимой 1941-1942 гг. на Кировском заводе было произведено 2 и отремонтировано 53 танка.
Нескончаемо долгие 872 дня… Каждый из них был подвигом, победой над собой, над смертью, над врагом. Ленинград продолжал сражаться.
Сложно сказать, как сложилась бы судьба осажденного города, если бы не удалось сохранить производственные мощности Кировского завода. Определенно, танковые войска Ленинградского фронта без завода и его ремонтных бригад быстро оказались бы небоеспособными. Недаром лозунгом кировских ремонтников был: «Один восстановленный танк спасает сто бойцов!» А без разработок конструкторов Кировского завода не было бы и новых танков, ставших серьезным козырем в войне.
Но за победу предприятию пришлось заплатить серьезную цену, рассчитаться разрушенными цехами, уничтоженными станками, поредевшим кадровым составом. В блокадном городе завод вел собственную войну, продолжая существовать и работать буквально в двух шагах от фронта.
Когда была прорвана блокада Иван Андреевич был вывезен из Ленинграда. Путь лежал в Салехард. Везли в вагонах обессиленных людей. Ходить они уже не могли. По приезду, всех поместили в больницу. Недели две их держали взаперти и кормили по норме. Тут стали они понемногу ходить. Кто с палочкой, кто за стенку держится.
После больницы работал на пароходе. Занимался ремонтом. Находясь в Салехараде, дед разыскивал семью. Выяснилось, что сестра Анна и брат Виктор были эвакуированы вместе с Петергофским заводом точных технических камней на Урал в Челябинскую область в маленький городок Куса.
В 1948 году Иван Андреевич приехал к родственникам в Кусу. Устроился работать на тот самый завод, с которым эвакуировались его брат и сестра. В Ленинград он так и не вернулся. Слишком тяжело было находиться в тех местах, которые прочно были связаны со смертью и тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю защитников Ленинграда.
Боль, которую нес дед в своем сердце всю жизнь, была скрыта от всех, даже от членов семьи. Но память об этих днях продолжала быть частью его существования.
В своей работе, да и в жизни, дед руководствовался нехитрым правилом делать свое дело честно, как он выражался «по-мужски». Подтверждением тому служат свыше полутора десятков благодарностей занесенных в его трудовую книжку. Иван Андреевич не стремился к продвижению по службе, к почестям или материальным благам. Вероятно, понимание тленности этих вещей было твердо сформировано в блокадные годы. Дед довольствовался малым и всю жизнь оставался очень скромным человеком.
В советское время в День Победы блокадников не чествовали. Лишь на излете советской эпохи был сделан первый шаг в деле того, чтобы приравнять тружеников осажденного Ленинграда к ветеранам Великой Отечественной войны.В 1989 году был учрежден знак «Жителю блокадного Ленинграда». Однако Иван Андреевич не дожил до того дня, когда подвиг блокадников официально был признан таковым. Он ушел из жизни в январе 1988 года.
Осознание того, что сделали защитники Ленинграда пришло к нам не сразу. Нашему обществу понадобилось значительное время. Настолько протяженное, что очень многие герои ушли раньше так и не дождавшись от нас земного поклона за свой подвиг. Поэтому на нас, потомках этих несгибаемых людей, лежит ответственность за сохранение памяти о блокаде. Вечная память вам – кировцы! Вечная память вам – ленинградцы!
Боевой путь
После войны
Когда была прорвана блокада Иван Андреевич был вывезен из Ленинграда. Путь лежал в Салехард. Везли в вагонах обессиленных людей. Ходить они уже не могли. По приезду, всех поместили в больницу. Недели две их держали взаперти и кормили по норме. Тут стали они понемногу ходить. Кто с палочкой, кто за стенку держится.
После больницы работал на пароходе. Занимался ремонтом. Находясь в Салехараде, дед разыскивал семью. Выяснилось, что сестра Анна и брат Виктор были эвакуированы вместе с Петергофским заводом точных технических камней на Урал в Челябинскую область в маленький городок Куса.
В 1948 году Иван Андреевич приехал к родственникам в Кусу. Устроился работать на тот самый завод, с которым эвакуировались его брат и сестра. В Ленинград он так и не вернулся. Слишком тяжело было находиться в тех местах, которые прочно были связаны со смертью и тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю защитников Ленинграда.
Боль, которую нес дед в своем сердце всю жизнь, была скрыта от всех, даже от членов семьи. Но память об этих днях продолжала быть частью его существования.
В своей работе, да и в жизни, дед руководствовался нехитрым правилом делать свое дело честно, как он выражался «по-мужски». Подтверждением тому служат свыше полутора десятков благодарностей занесенных в его трудовую книжку. Иван Андреевич не стремился к продвижению по службе, к почестям или материальным благам. Вероятно, понимание тленности этих вещей было твердо сформировано в блокадные годы. Дед довольствовался малым и всю жизнь оставался очень скромным человеком.
В советское время в День Победы блокадников не чествовали. Лишь на излете советской эпохи был сделан первый шаг в деле того, чтобы приравнять тружеников осажденного Ленинграда к ветеранам Великой Отечественной войны.В 1989 году был учрежден знак «Жителю блокадного Ленинграда». Однако Иван Андреевич не дожил до того дня, когда подвиг блокадников официально был признан таковым. Он ушел из жизни в январе 1988 года.
Осознание того, что сделали защитники Ленинграда пришло к нам не сразу. Нашему обществу понадобилось значительное время. Настолько протяженное, что очень многие герои ушли раньше так и не дождавшись от нас земного поклона за свой подвиг. Поэтому на нас, потомках этих несгибаемых людей, лежит ответственность за сохранение памяти о блокаде. Вечная память вам – кировцы! Вечная память вам – ленинградцы!