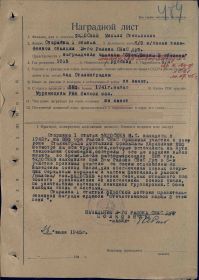Михаил
Степанович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Бревно вертелось, ныряло, и, словно намыленное, выскальзывало из рук, онемевших в холодной воде. Обмундирование, с каждой минутой борьбы с волнами за жизнь, все больше тяжелело и становилось свинцовым грузом, увлекающим Михаила на дно Волги...
То было холодной осенней порой 1943 года. Бригада тральщиков, сформированная из моряков, откомандированных со всех флотов, выполняла стратегическую задачу обеспечения связи тыла с растянувшимся фронтом от Прибалтики до самого Черного моря. Осенняя распутица превратила дороги в сплошное месиво и ловушки, поэтому широкая лента Волги оставалась единственной артерией, питавшей боеспособность всей нашей армии. Вот так и угадал наш земляк Михаил Степанович Федосеев на веками воспеваемую матушку-Волгу.
– Призвали меня на действительную службу в 1936 году. Помню – говорит он, – в те времена каждый молодой парень мечтал попасть на флот. Привлекала нас матросская форма с ее легендарной бескозыркой и, конечно же, романтика морских приключений. Мне повезло, попал служить на дальневосточный флот. За четыре года службы обучили меня сложному делу обезвреживания плавучих и глубинных мин. Всякое было на учениях в водах Тихого океана, а в 1943 году пришлось хлебнуть и водицы из Волги.
Налетела, однажды, вражья авиация и устроила такую карусель над нашей речной траловой флотилией, что трудно было сориентироваться. Фашист буквально поднял взрывами участок могучей реки на воздух. Все перемешалось. Вода дыбилась под ногами, смерчем обрушивалась на голову. А под конец налета угадала тяжелая бомба и в наш катер. Сначала его тряхнуло, приподняло и так рвануло, что он разлетелся кусками во все стороны со всей своей начинкой. Экипажи были на катерах по 18–20 человек. Сколько матросов из нашего катера погибло сразу и сколько утонуло, оказавшись за бортом в холодных волнах, сказать трудно.
Меня выручило бревно. Как оно не вертелось, как не норовило ускользнуть, все же мне удалось его «оседлать», чтоб добраться до противоположного берега. Из последних сил прибился я к отмели и не мог разомкнуть омертвевшие руки. Долго в ушах стоял хряск разрывов, плеск воды и сквозь него буравом в душу ввинчивались голоса мольбы о помощи раненных и утопающих товарищей.
Не знаю, что больше мне придало тогда сил. Или мысли о том, что остался жив, или переполнившая все нутро ненависть к безжалостному врагу. Только вот так с, бревном долго я еще месил илистую отмель, выбираясь на сушу. От него оторвался только тогда, когда от движений немного согрелся, и прошло общее судорожное оцепенение. А в мозгах, как те яркие вспышки от взрывов, горела одна мысль: ты должен жить, иначе, кто же прогонит лютого чужеземца ни за что уничтожающего твой народ. Без прикрас скажу, именно так оно и было. Передвигались, делая свое дело, мы по всей Волге. На подступах к Сталинграду картина смерти была еще страшней, чем где-либо в другом месте. Город вся окрестная земля и река кипели в смертельных муках. На моих глазах огромный пароход «Карл Маркс» напоролся на разбросанные врагом ночью с самолетов мины. Пароход раскололся наполовину, а все находящиеся на нем люди (старики, женщины, дети) оказались в месиве огня, обломков тонущего корабля и увлекающих на дно воронок. Тральщики пытались спасать людей. Извлекали из воды раненых, пропуская проплывающие, мимо безжизненные уже тела. Иногда выхватывали из пучины показавшуюся на поверхности чью-то руку и с ужасом от нее отталкивались потому, что она оказывалась без самого туловища. Жутко об этом сегодня вспоминать, но и забывать истинное «лицо» войны никогда не следует. И мы с еще большим ожесточением сил старались «цедить» воду и «царапать» дно рек, чтоб ни одна вражеская мина не достигла злого замысла. После Волги мы перебазировались через Черное море на Дунай. Там я и встретил Победу...
Нахлынувшие воспоминания на некоторое время сделали задумчивым и пасмурным моего собеседника. И, улучшив момент, чтоб как-то разрядить обстановку, спросим Михаила Степановича, что бы он пожелал фронтовикам, всем нашим людям накануне праздника 50-летия Победы над Германией?
И он ответил.
– Время уносит с собой стариков. В первую очередь, уходят фронтовики: они много пережили и перенесли. Редкий человек вернулся с фронта без метины. У одного все нутро простужено или продырявлено, другой таскает в себе осколочную начинку, третий и вовсе инвалид – от человека одно название осталось. Так вот я хотел бы пожелать всем фронтовикам, чтобы дожили они свою жизнь без мук и страданий.
А всем остальным?.. Хотелось, чтоб каждый заглянул в свою душу и понял наше фронтовое поколение. Ведь в свое время мы трудились, воевали, не жалея крови и самой жизни, ради тех, кто будет жить после нас. И если мы пока еще живы, то относиться к нам надо по-человечески. А о тех, кому не довелось вернуться с поля боя, надо по-доброму хранить память.
И еще... Худо будет тому, кто забывает вековую народную мудрость о дружбе между людьми. Не зря же говорят: в веселье смеется каждый по-своему, а в горе плачут все одинаковыми слезами. И война это показала лучшим образом. Вряд ли бы мы праздновали эту Победу, если бы русский воевал по-русски, казах – по-казахски, узбек тоже по-своему и т. д. Дружба между разными народами была и должна остаться великой драгоценностью. ("Знамя труда".-1994.-13 апр. записал И. Волков)